
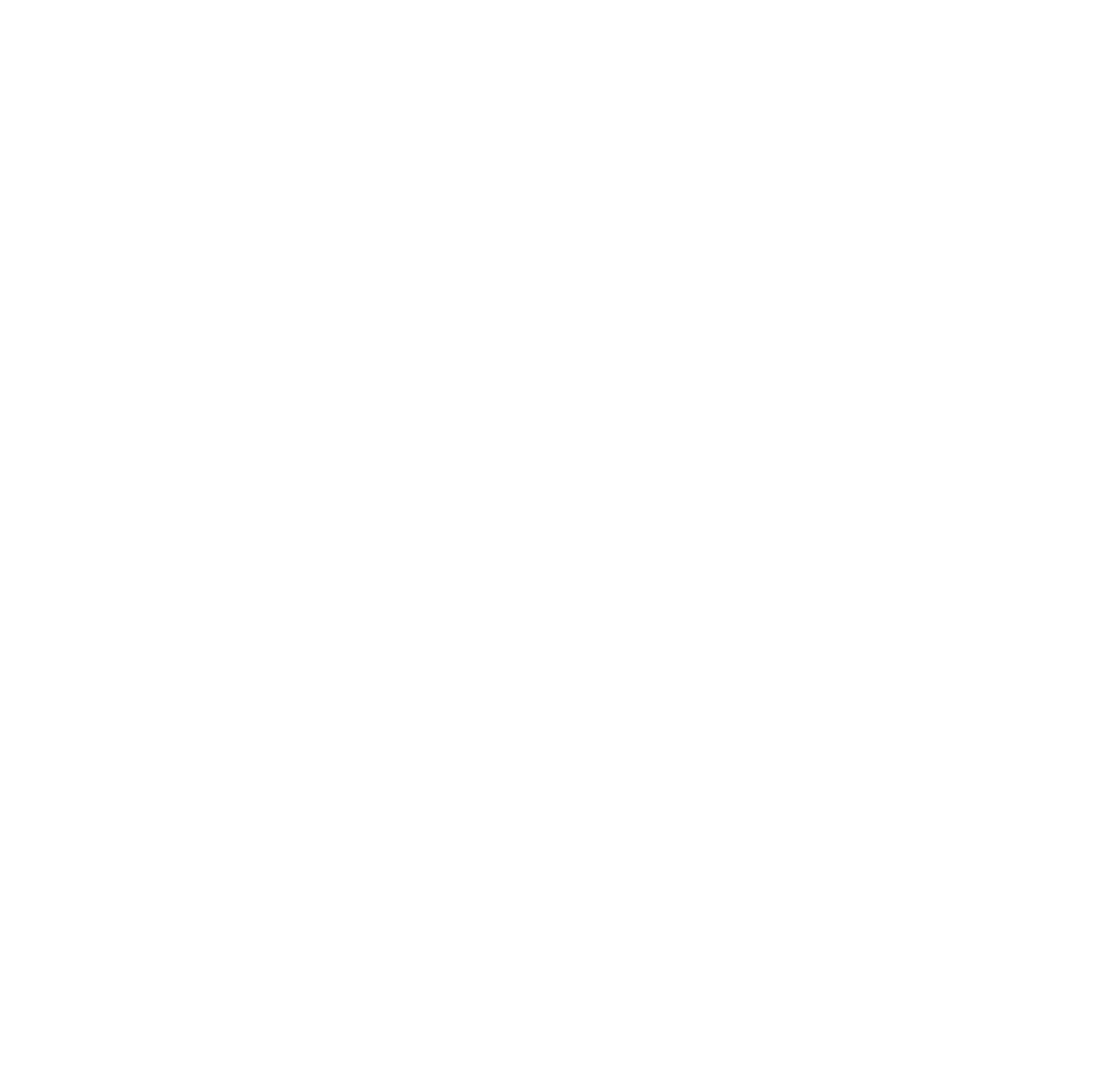
Приватизация как национальная травма: как прошли 1990-е и почему это до сих пор больно
Бюджетная логика и новый политэкономический курс
Спустя три десятилетия государство снова говорит о передаче активов частному сектору. Возникает вопрос — зачем? Экономических причин немало. На фоне падения доходов от экспорта, санкционного давления, дефицита бюджета и истощения резервов власти ищут способы пополнить казну. По расчетам Минфина, новая приватизация может дать от ₽100 млрд до ₽300 млрд. Это относительно скромные цифры, но в условиях дефицита в ₽3,2 трлн за 4 месяца 2025 года любая прибавка ценна. Кроме того, Президент поставил задачу увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, и приватизация воспринимается как один из способов привлечения частных и институциональных инвесторов, в том числе иностранных. Глава РСПП Александр Шохин озвучил идею привлечь часть из ₽55 трлн, лежащих на депозитах россиян, предложив вложиться в госкомпании. Риторика меняется: приватизация — это не про распродажу, а про вовлечение, модернизацию и открытие нового инвестиционного цикла.
Но за сухой экономической логикой стоит еще кое-что — нечто большее и важное. Если новая приватизация пройдет прозрачно и справедливо, она может дать не только фискальный и инвестиционный эффект, но и то, чего особенно не хватало в 1990-х, — чувство сопричастности. Миллионы граждан получат шанс ощутить, что экономика — это не абстракция, не игра для избранных, а их личное дело. Что инвестиции — это для себя, своей семьи, своих соседей, своей страны. Что экономический рост — это не просто макроцифра в отчете Минфина, а рост стоимости их акций, их пенсионных накоплений, их уверенности в будущем. В этой логике приватизация становится не только экономическим, но и культурным аспектом: отказом от советского отношения к собственности как к ничьей и переходом к новой этике, где собственность означает ответственность, участие, труд. Если все сделать правильно, россияне впервые за долгое время смогут почувствовать, что экономика принадлежит им.
Архитектура новой приватизации
Вопросы, которые всех интересуют относительно грядущего процесса, просты: кто, как и насколько? Сама архитектура будущей приватизации уже вырисовывается. Минфин подготовил предложения, которые находятся в правительстве. Речь идет о снижении доли государства в ряде крупнейших компаний до уровня контрольного пакета — 50% плюс 1 акция. Изначально в список входило около 30 организаций, но позже его сократили до 7. Эти предприятия могут быть частично проданы уже в 2026 году. Среди них называют ВТБ, РЖД, Транснефть, Почту России, Совкомфлот, Алросу, Ростелеком, Дом.РФ. В числе наиболее ожидаемых событий — приватизация 5% акций последнего в формате IPO, запланированная на конец 2025 года. Предполагается, что бюджет получит около ₽15 млрд. Большинство сделок пройдут через Московскую биржу с использованием механизмов SPO и IPO, что позволит выйти на рынок уже представленных компаний и увеличить долю свободного обращения акций. Но не исключены и закрытые сделки — для стратегических инвесторов или через специально созданные инвестиционные фонды. Формально государство сохранит контроль с помощью долговых инструментов и голосующих акций, но статус компаний станет частным.
Системные риски: от квазирынков до повторения старых ошибок
Ключевые вопросы будущей приватизации — не в форме, а в содержании. Готова ли институциональная среда к новой волне приватизации? Способна ли она защитить интересы миноритариев? И главное — изменит ли она структуру собственности или за ней последует лишь перераспределение внутри квазигосударственного контура? Эксперты разошлись во мнениях. Александр Абрамов из РАНХиГС отмечает, что доля государства в российских публичных компаниях составляет около 60% капитализации, при этом госструктуры дают треть ВВП. Чтобы реально изменить ситуацию, необходимо приватизировать 15-20% от всех активов госкомпаний, задействовать сотни предприятий, включая стратегически важные, а не только убыточные и перегруженные долгами, которые государство бы хотело «скинуть». В противном случае эффект будет косметическим.
Серьезные опасения вызывает и возможность создания новых монополий. Управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев подчеркивает, что в условиях непрозрачных и закрытых форматов легко возникнут олигополии, как это уже было в 1990-х. Кроме того, остается нерешенным вопрос защиты миноритарных акционеров. История с национализацией Соликамского магниевого завода, где после покупки 10% акций на бирже инвесторы лишились собственности в результате решения государства, стала тревожным сигналом. Даже несмотря на то, что суд позднее признал права инвесторов, убытки были уже понесены. Это подрывает доверие и отпугивает частный капитал. Проблема де-юре и де-факто контроля также остается актуальной: если активы перейдут к госбанкам, институтам развития или формально частным фондам, система останется прежней.
Тем не менее у проекта есть потенциал, если его правильно реализовать. Прежняя приватизация провалилась из-за отсутствия цели формирования институтов капитала. Сейчас можно было бы создать инвестиционные фонды, владеющие пакетами приватизируемых компаний, формировать через них доходы и участвовать на рынках облигаций и акций. Пайщики могли бы получить долгосрочную выгоду, а не разовую компенсацию. Для этого необходима системная подготовка: аудит, корпоративное управление, публичная отчетность. Поэтому экономисты предлагают ввести народные IPO с возможностью выкупа долей сотрудниками, жителями регионов и мелкими инвесторами. Такой вариант стал бы не только финансовым, но и политическим шагом — демонстрацией, что уроки 1990-х выучены, а новая приватизация — не сделка элит, а участие общества в экономике.
Опыт других стран показывает, что приватизация может быть успешной. В Турции в 2012 году были проданы крупнейшие энергетические компании, в Великобритании — аэропорты и железные дороги. Даже в Чили приватизация 1990-х, продолжившая реформы Пиночета, позволила создать конкуренцию в водоснабжении и транспорте. Но есть и провалы — как в случае с Deutsche Telekom в Германии, где массовое вовлечение граждан обернулось падением котировок и крахом доверия. Проще говоря, это процесс чрезвычайно индивидуальный в каждом случае и единого мнения, что приватизация повышает эффективность, нет. Это не волшебная палочка, которая делает людей богатыми. Это сложный механизм, в котором роль играют правила, институты и доверие.
Вопрос не в том, стоит ли приватизировать. Вопрос — как это делать. Если процесс снова пройдет в тени, с участием «своих» структур, без четкой публичной стратегии, без равного доступа и механизмов обратной связи, то нас ждет не реформа, а ритуал. Переименование собственности без смены принципов. Роспись по старой схеме.
Но если этот процесс будет публичным, справедливым и инклюзивным, он может изменить само восприятие экономики. Люди, став акционерами, почувствуют сопричастность. Инвесторы — доверие. Государство — кредит доверия, который ему давно не давали.
Сегодня в стране около 15 млн человек, имеющих брокерские счета. Примерно 4,5 млн из них активно инвестируют. Это ядро будущего рынка. Но они не придут, если вспомнят, как выглядел рынок в 1995 году. Или в 2022, когда власти одномоментно закрыли доступ к дивидендам и информации, ссылаясь на «внешнюю обстановку». Этот рынок нужно строить заново — через доверие, прозрачность и последовательность. Иначе любые акции останутся бумажками, которые никто не хочет покупать.
Приватизация может стать тестом на зрелость не только институциональной среды, но и самого общества. Готовы ли мы к тому, чтобы участвовать в экономике не в роли получателей пособий, а в роли инвесторов и совладельцев? Хотим ли мы влиять или предпочитаем жаловаться, что нас снова обманули?
Власть тоже делает выбор. Она может оставить все как есть и дожимать ресурсы, пока они не иссякнут. Или пойти на риск и сказать: «Мы доверяем рынку. Мы передаем вам активы, потому что верим, что частное эффективнее, чем государственное. Но в обмен хотим прозрачности, ответственности и открытой игры».
Это сделка — и она должна быть честной. Не только с экономической точки зрения, но и с политической. Приватизация 2.0 является экзаменом на готовность строить взрослую экономику, где собственность — это не загадка с припиской «особый статус», а инструмент развития. Где бюджет пополняется не налогами с бензина и НДС, а продажей долей в компаниях, которые потом растут и приносят дивиденды не только в казну, но и в кошельки граждан.
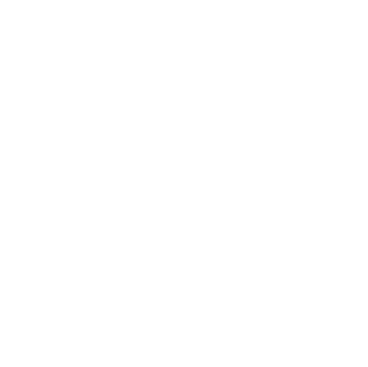
СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА
2025

