
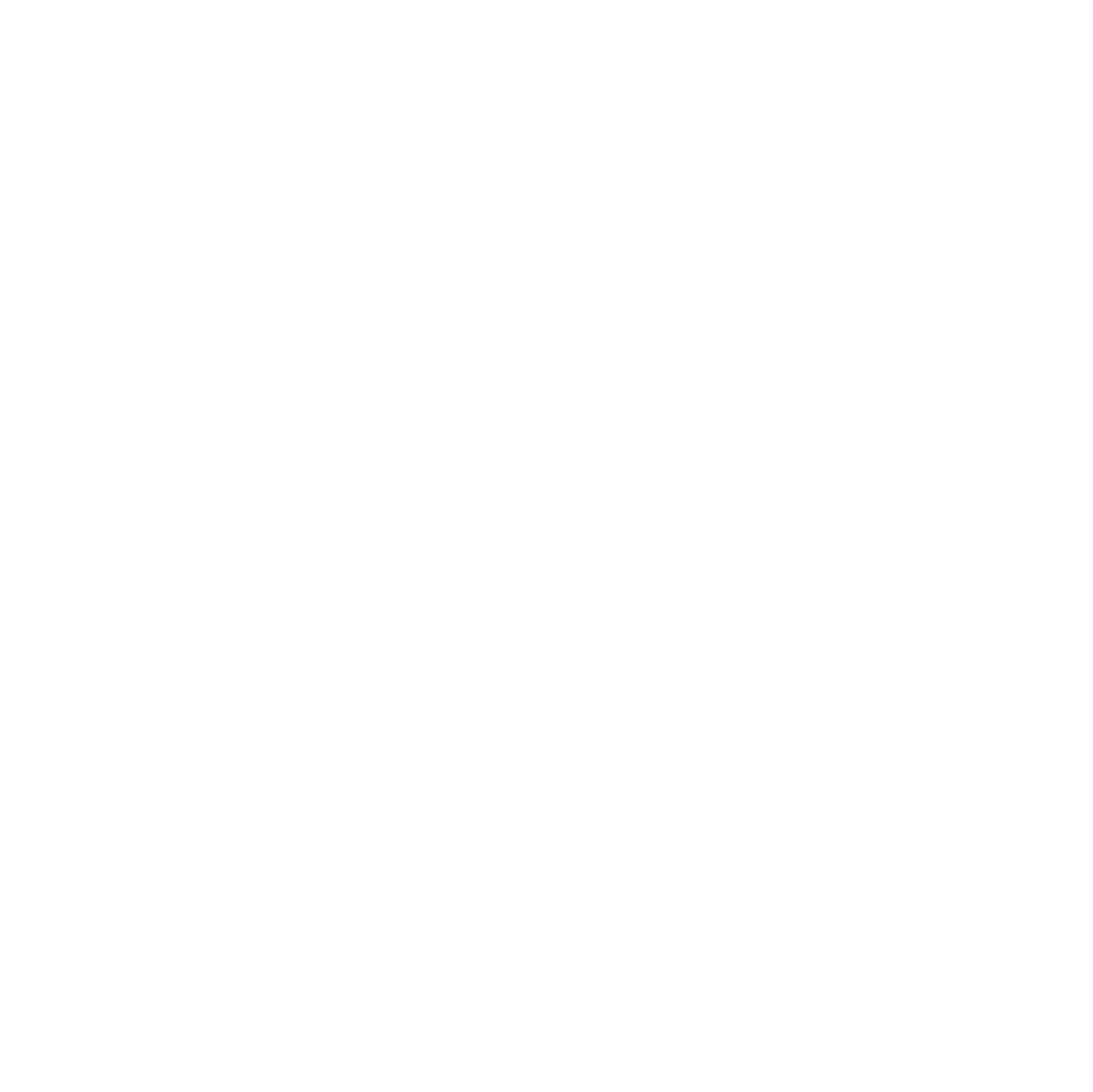
Как меняется мир при Трампе
В целом это было логично, так как инициаторами санкций стали страны НАТО. США и Европа действовали «в едином порыве», а большинство ограничений носили вполне понятный характер и цели. Так, от России хотели прекращения СВО, от Ирана — остановки ракетной программы и соблюдения прав человека, от Северной Кореи примерно того же самого. То есть требования лежали в основном в политической плоскости, а не экономической.
Особняком стоят санкции США против Китая, но там история совсем иная: экономики двух мировых лидеров так тесно переплетены, что их часто иронично называют «Чимерика» — от China и America. КНР также часто и небезосновательно обвиняют в нарушении прав человека, вот только к полноценной санкционной войне ни Штаты, ни Европа пока не готовы. Точнее, размежевание «Чимерики» медленно начинается, но полноценный «развод» может занять десятилетия.
В общем, санкции вводят для того, чтобы заставить оппонента принять вашу точку зрения, «наказать» за излишнюю самостоятельность или просто ослабить потенциального противника.
Тем удивительнее, что новые торговые барьеры при Трампе американцы вводят не только и не столько против своего главного конкурента (Китая), а в отношении традиционных партнеров — Канады, Мексики и ЕС. Причем там все серьезно: 5 марта президент США объявил о новых 25% пошлинах на товарооборот больше $2 трлн. И все это вместе с 25% пошлинами на европейские сталь и алюминий. Да, торговые войны — далеко не такие агрессивные, как санкционные. Но кажется, что они являются вполне логичным продолжением политических и экономических процессов, происходивших в последние два десятилетия.
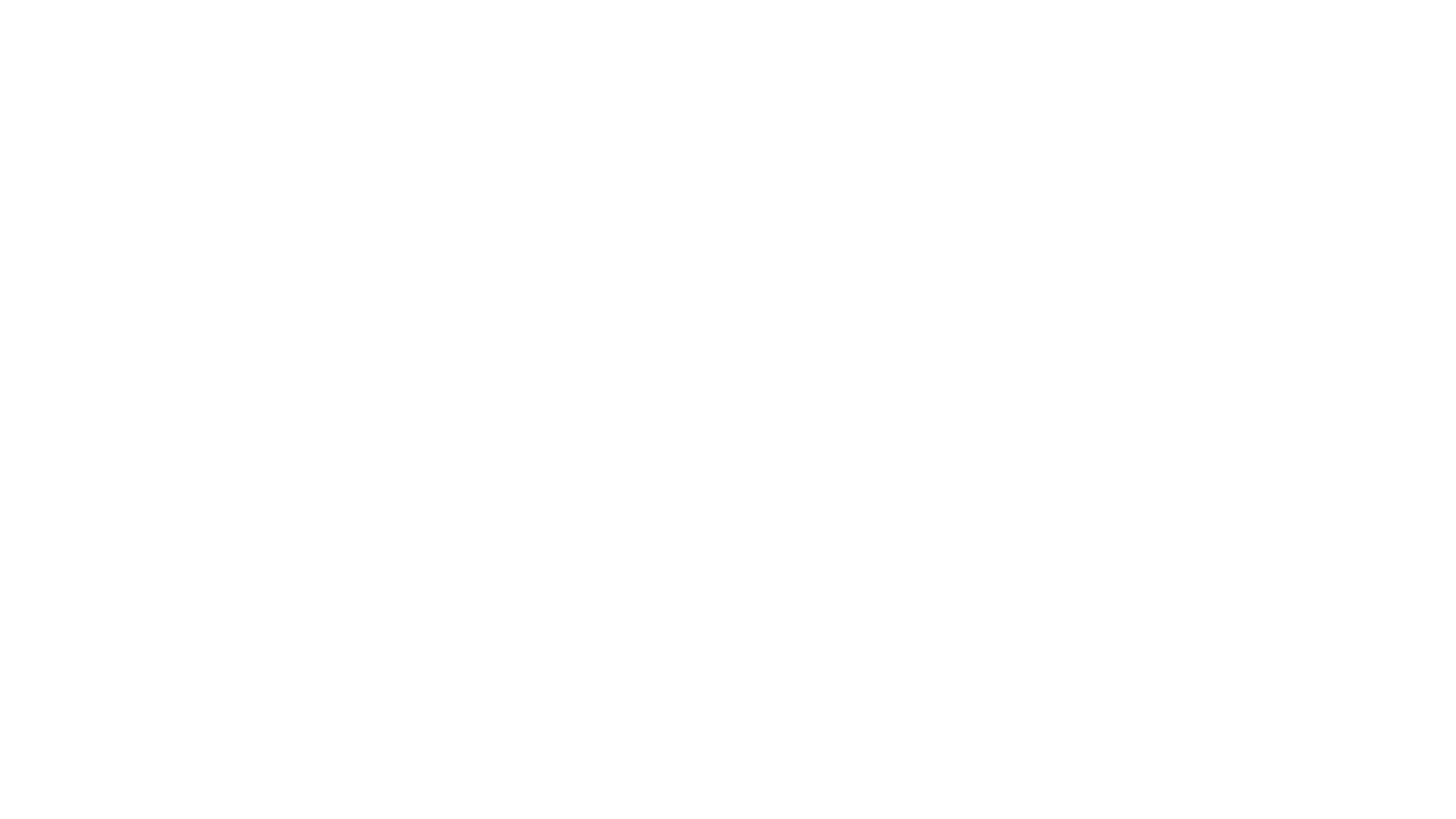
Чего вообще хочет добиться Трамп?
Надо четко понимать, что текущий виток торговых войн запустил один конкретный человек — Дональд Трамп. Пойдут ли эти события на пользу Соединенным Штатам — вопрос спорный, критики американского лидера оценивают будущее экономики США крайне негативно, а его сторонники видят только рост и процветание. Но суть экономической политики Трампа можно оценить если не по его предвыборным обещаниям, то как минимум по тому, что он делал во время своего первого срока.
Основа его действий, 4 главных фактора — это рост импортных пошлин, борьба с Китаем, налоговые льготы (в том числе для крупного бизнеса) и антимиграционная повестка. Есть предположение, что сейчас его администрация попытается провернуть нечто подобное, учитывая позитивный и негативный опыт прошлого президентского срока Трампа. Правда, текущий срок для американского лидера является последним, и это может объяснить как спешку, так и определенный радикализм в его действиях.
Вспомним 2017 год — тогда Трамп пытался снизить налоги, заменив выпадающие доходы за счет торговых пошлин, и решить проблему дефицита внешней торговли, который по итогам 2024 года вырос на 17%, до $918,4 млрд. При этом дефицит обеспечил в первую очередь импорт: он вырос на 6,6%, до рекордных $4,1 трлн. Ирония ситуации в том, что администрация Трампа считает привычную свободную торговлю угрозой США. И тому есть вполне логичные причины.
Во-первых, текущий перекос торгового баланса в Соединенных Штатах — это прямое следствие появления развитого финансового рынка и резкого роста благосостояния населения. Так, производство тех или иных товаров в США не выгодно по одной простой причине: американский рабочий будет требовать большую зарплату, чем китайский. На этой простой формуле «взлетели» и Китай, и Япония, и азиатские «драконы». При этом страны-экспортеры, имеющие положительный торговый баланс, вынуждены инвестировать в экономику США, если хотят сохранить свое преимущество в виде дешевой валюты. Следовательно, получается своего рода замкнутый круг: экспортеры покупают американские ценные бумаги, разгоняя американский же фондовый рынок, американские домохозяйства богатеют, а американская экономика становится менее конкурентоспособной.
Часто говорят, что торговые барьеры вызывают рост инфляции — но в 2018 году она замедлилась после введения тарифов, вопреки всем опасениям. ФРС постепенно повышала ставки и нормализовала денежно-кредитную политику в 2017-2018 годах, и снизила ставки в 2019 по мере ослабления экономики.
Резюмируем: Дональд Трамп хочет сократить дефицит американского торгового баланса и в некотором смысле «реиндустриализировать» США. Кроме того, он планирует снизить налоги, а выпадающие из бюджета доходы хочет получить за счет роста торговых пошлин.
Одним из главных слов американской торговли последних десятилетий стал nearshoring — это когда американские (и любые другие) компании переносят производство не в страну с самой дешевой рабочей силой вообще, а в ближайшую из таковых. Для США подобным государством, безусловно, является Мексика — на фоне американо-китайской торговой войны она становится буквально «воротами» в Штаты.
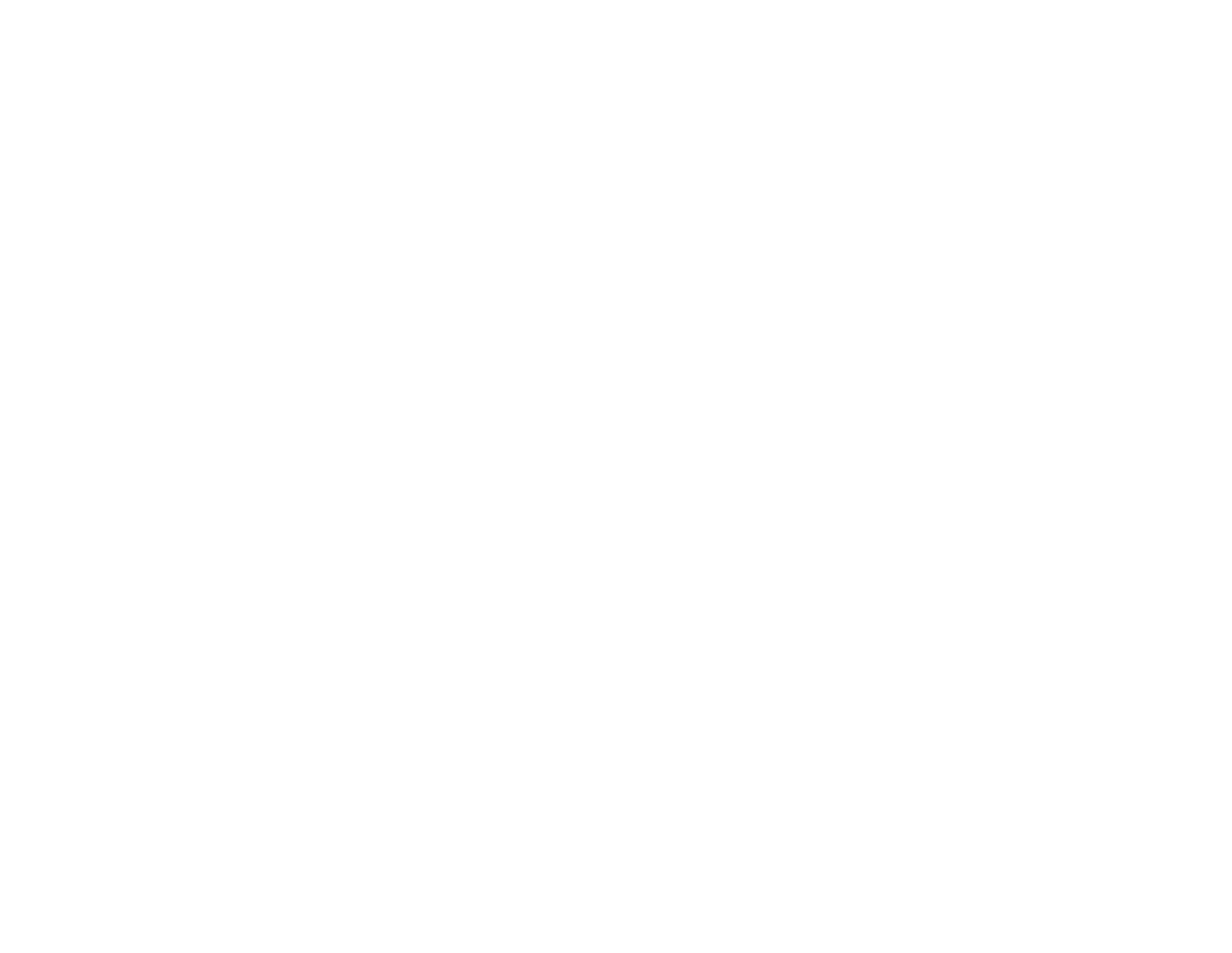
Так что, когда вы услышите о том, что Мексика экспортирует в Соединенные Штаты товаров больше, чем Китай или чем Япония и Германия вместе взятые, не удивляйтесь. Просто мексиканцы стали победителями в «чимериканской» лотерее: производство туда переносят и китайские, и американские компании.
По большому счету, Мексика в этой ситуации — своего рода «прослойка» между США и другими странами, хотя к официальному Мехико есть много вопросов. Тут и нежелание решать больную для американцев проблему с мигрантами, и чуть более чем толерантное отношение местных властей к наркокартелям, фактически ставшим «второй властью» во многих мексиканских штатах.
С Канадой и ЕС история другая — американцы утверждают, что компенсируют «нетарифные» ограничения. Так или иначе, действия Трампа — это попытка «продавить» партнеров, пусть и достаточно специфическим способом. При этом надо четко понимать, что с ЕС и Китаем ситуация принципиально разная.
КНР — экзистенциальный конкурент Штатов и одновременно их главный торговый партнер. По большому счету, председатель китайской компартии — единственный человек, который может разговаривать с американцами с позиции силы. Ну, или, по крайней мере, пытаться.
Евросоюз — это «младший партнер» по НАТО, самостоятельно загнавший себя в кризисную ситуацию собственной безграмотной экономической политикой. По сути, Трамп прав — европейцы и японцы долгое время жили «под зонтиком» американских расходов на оборону. Ирония в том, что некоторые страны ЕС, даже довольно крупные (например, Португалия или Италия), вели себя по отношению к США так же, как в самом Евросоюзе пытались вести себя «прибалтийские карлики». Вот только если прибалтам в Европе дают трибуну, гладят по голове, всячески оберегают и относятся как к любимому, но неизлечимо больному ребенку, то новая администрация Белого дома прямо спрашивает: а где деньги? Хотите общаться на равных — повышайте бюджет на оборону. США тратят на нее почти $1 трлн, а сколько тратят страны Европы? €330 млрд? Ну так пусть не удивляются, что во многих вопросах у них остался только совещательный голос.
Что может сделать ЕС? По большому счету, там выбор между «плохим» и «очень плохим». Германия второй год не может выйти из рецессии (-0,3% в 2023, -0,2% в 2024), во Франции дела немногим лучше при общем росте ВВП Евросоюза на 0,8% за год. Как Европа хочет искать дополнительные €650 млрд (это 10 годовых бюджетов Германии на оборону) на фоне торговой войны с США — совершенно непонятно. Правда, еще в декабре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте предлагал ради этого сокращать пенсии и социальные расходы.
Мы рискуем через пару лет получить совершенно чудовищный микс из санкций, торговых барьеров и «несанкционных ограничений». Причем именно последние могут быть чуть ли не самой большой проблемой.
Худший сценарий — это когда Россия не сможет продавать энергоресурсы в ЕС и будет вынуждена торговать с Китаем или Индией с соответствующим дисконтом — Bloomberg оценивает потери в 2024—2027 годах в районе 14%. Нюанс в том, что проблемы в Евросоюзе и потенциальные сложности в китайской экономике без всяких санкций снижают цены на нефть и газ. Получается замкнутый круг: ЕС накладывает санкции, у него падает промышленное производство, в мире снижаются цены на нефть и газ, все зарабатывают меньше. От происходящего выиграют разве что Катар или … США.
Причем проблемы связаны не только и не столько с ценовым потолком, сколько с санкциями против финансового сектора и логистики. И самый яркий пример здесь: «Ямал СПГ» от «Новатэка». С одной стороны, есть оценка роста глобальной торговли СПГ к 2030 году до 1 трлн тонн с нынешних 400 млрд. Есть США, которые строят терминалы СПГ, рассчитывая через 3 года нарастить экспортную емкость на 85%. И вроде бы даже Европа готова покупать российский газ: туда уходит примерно половина всех поставок, а вице-премьер Новак уже говорил о планах выйти на 100 млн тонн через 6 лет. И «Арктик СПГ—2» на 19,8 млн тонн практически построен … вот только флота для экспорта у нас нет из-за санкций. В конце прошлого года американцы фактически заблокировали отгрузки даже без принудительного эмбарго на поставки в ЕС: под раздачу попали даже индийские подрядчики. В итоге Bloomberg писал о фактической остановке добычи в конце прошлого года.
Аналогичная история с финансовой сферой: не просто так основой для старта новой «Черноморской инициативы» становится снятие санкций с РСХБ, ключевого агента в экспорте российской агропродукции. С КНР история похожая: многие китайские банки уже не готовы работать с Россией и вынуждены придумывать «альтернативные каналы» для обеспечения ВЭД.
Более того, ценовой потолок во многом выглядит как замаскированные «пошлины», просто иначе устроенные, так что будущее — это и санкции, и торговые войны, разница только в том, что накладывать первые на друзей пока не принято, а вот с пошлинами такой проблемы нет. Причем активное использование США и тех, и других может приводить к достаточно непредсказуемым результатам: например, к возможному ослаблению санкций в финансовой сфере в обмен на сохранение ограничений на поставку энергоносителей в отношении ЕС. Звучит смешно, но с экономической точки зрения Россия не является для Штатов ни конкурентом, ни проблемой.
Более того, наши страны остаются крупными экспортерами углеводородов. И кажется, что США не против пересадить Европу с российской «нефтегазовой иглы» на собственную. Подчеркнем, что пока все это домыслы, но имеющие под собой вполне реальную оценку.
В итоге торговые войны делают ситуацию в мировой экономике еще более хаотичной и непредсказуемой и могут приводить к совершенно неожиданным комбинациям. Особенно если мирный процесс на Украине будет близок к старту, а политические барьеры начнут слабеть.
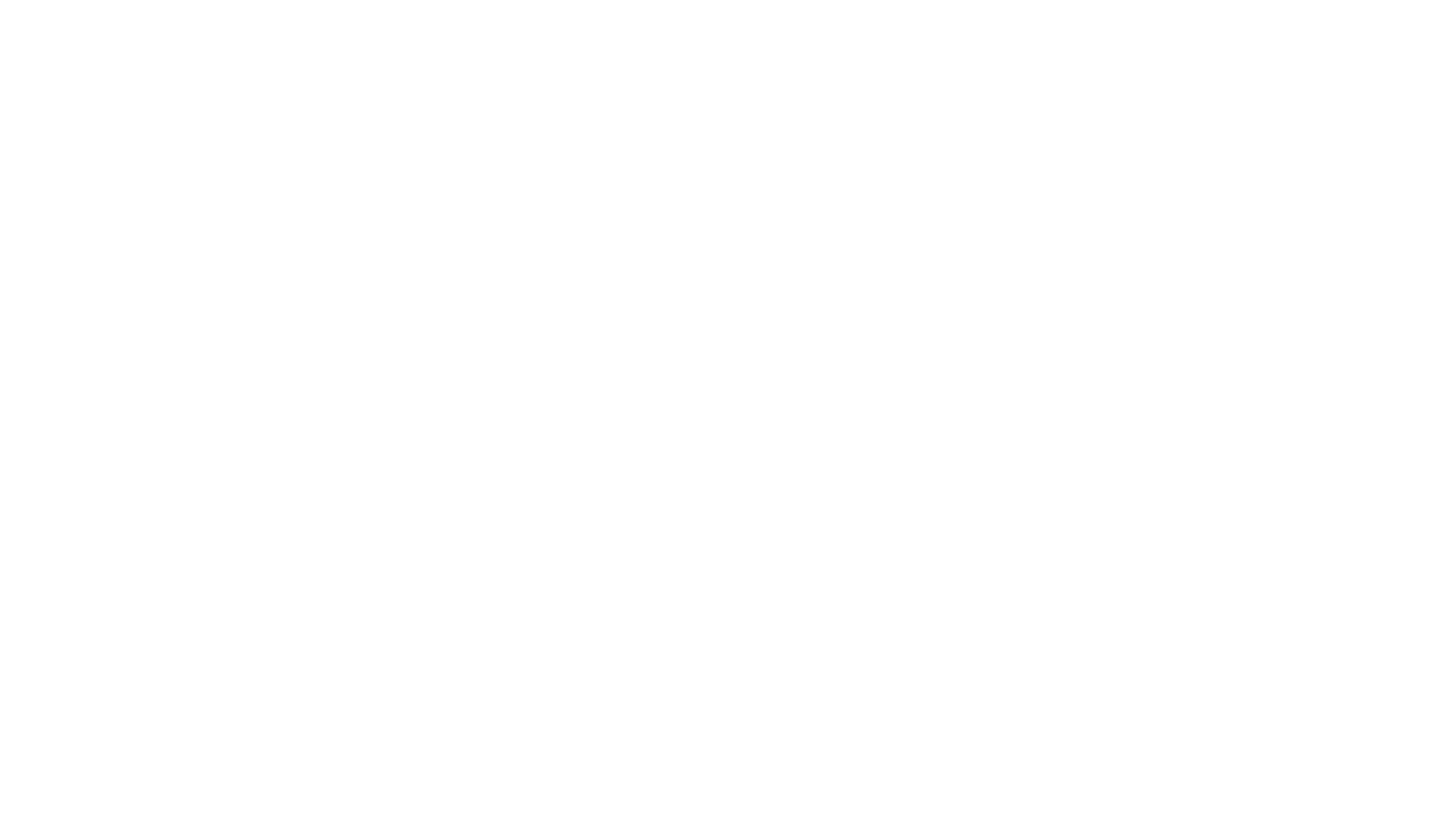
Китай против … БРИКС?
Главная особенность торговых войн — в том, что ведутся они не блоками (как войны традиционные), а «все против всех». При этом пострадавшими как обычно окажутся страны, которые к инициаторам имеют весьма опосредованное отношение. Как так вышло?
А все очень просто. И КНР, и ЕС глубоко интегрированы в глобальную экономику. Китайский «Один пояс, один путь» вообще проходит через несколько десятков стран. Аналогичная история со «Срединным транспортным коридором» — он протянулся от Поднебесной до Румынии и Польши. А продукция китайской промышленности продается по всему миру.
Теперь следим за руками: КНР зависит от США как от ключевого рынка сбыта. Как только будут введены пошлины — причем не только против Китая, но и против его «прокси», Мексики — китайской промышленности резко потребуются новые рынки сбыта. Причем в самой Поднебесной ситуация тоже не самая простая, и на внутренний спрос рассчитывать не приходится.
За последние десятилетия мы привыкли говорить о Китае как о великой экономической державе, равной США, но в настоящее время у нее большие проблемы. Уже сейчас экономика КНР находится на грани дефляционной спирали. Производственные цены продолжают падать (там -2,2% год к году), по рознице ситуация чуть лучше (-0,7% за декабрь–январь) при общем снижении индекса цен за отдельные периоды. Почти наверняка цифры по ВВП Статбюро «дорисовывает». А тут еще кризис рынка недвижимости, который никуда не делся.
В итоге больше всех от американо-китайской торговой войны пострадают развивающиеся страны.
Вместо США компании из КНР пойдут экспортировать свою продукцию туда — просто потому, что нарастить долю рынка в ЕС быстро не получится, Штаты самоизолировались, и остаются … те самые члены БРИКС с друзьями. Товарооборот с условным Вьетнамом уже вырос почти в 2 раза за 4 года, с Бразилией — в 1,5 раза. Индия «отобьется», а вот у остальных будут проблемы.
А значит, что условным Бразилии или Индонезии придется либо вводить собственные пошлины или спасать «домашнее» производство, рискуя ростом цен, или смириться с ростом безработицы и волной банкротств. И то, и другое — выбор не самый плохой. Иронично, но на фоне всего происходящего мы можем увидеть вал «антикитайской» риторики и масштабный «правый поворот» в развивающихся странах.
Так что эпоха торговых войн, без сомнения, будет иметь далеко идущие последствия. Если, конечно, не закончится вместе со сроком Трампа.
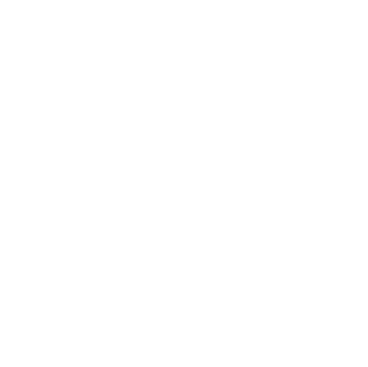
СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА
2025

